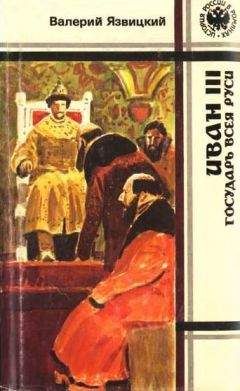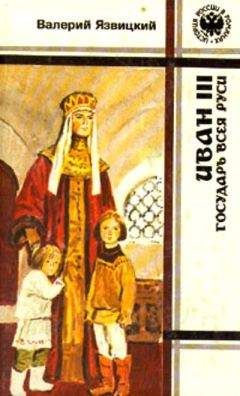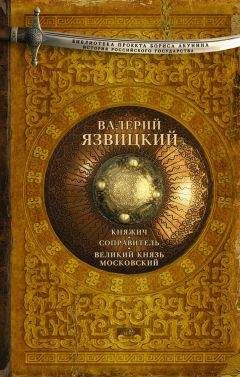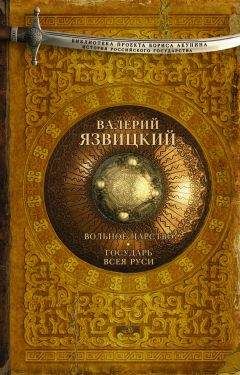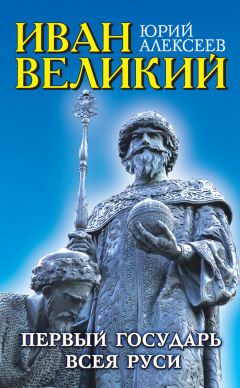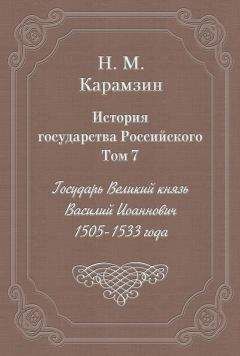— А пошто так стало, государь, — сказал боярин Ховрин, — по то стало сие, что великий князь московский все другие великие княжества под руку Москвы покорил, превратил их в своих служилых князей, сначала через татарскую дань и выходы Орде, а при тобе, государь, через постоянное войско твое под руку твою покорились они после разгрома Орды…
— Смирение Новагорода и Казани, великие победы постоянного войска над внешними ворогами, как ты, государь, сам сказывал, — начал было набольший воевода князь Василий Холмский.
— Так-то оно так, — возразил Ховрин, — верно сие. Везде на ратном поле у нас победа. Вольным царством Русь сделали, токмо вот на самой вольной Руси нестроенья пошли меж вотчинниками, меж помещиками и холопами, а пуще того у холопов с монастырями нестроенья до бунтов доходят.
— Истинно так, — добавил дьяк Василий Далматов, — после грамот о юрьеве дне холоп до земли жаден стал, сам пахать хочет, а с чужих земель бежит. Посему не хватает рабочих рук и у монастырей, и у вотчинников, и даже на некоих черных государевых землях.
— Мало бегут токмо от испомещенных ратных людей, — заметил набольший воевода, — ибо холопы сих помещиков поверстаны в постоянное войско и судят их вельми строго за побег из поместья, яко за побег с ратного поля… Их и бьют, и мучают, и заковывают в цепи…
— Зато оброки у ратных помещиков легче — всего два: хлеб сжать да сена накосить, — пояснил набольший воевода.
— Холопы никогда не жили все одинаково, — заметил государь, — и никогда жить одинаково не будут. Все зависит от числа работников и умельцев в семье на разные подсобные заработки. Яз видел сам крестьян на побережье Варяжского моря, в Ямском погосте. Хлеба там мало сеют, больше болотной железной руды добывают да кузнецким ремеслом займаются, или рыбу ловят, лен-долгунец сеют, живут все по-разному: кто богаче, кто беднее. Да о сем не государева забота. Всяк Еремей про себя разумей, а государево дело — обо всех заботиться; защищать государство от ворогов иноземных, от нападений и грабежей, суды судить…
При этих словах в покой вбежала младшая дочь Ивана Васильевича, Дунюшка, выкрикивая с плачем:
— Государь-батюшка, поспеши!.. Матерь наша отходит…[172]
Все растерянно встали со своих мест, а государь, побледнев, с трудом поднялся и снова сел, воскликнув в недоумении:
— Ишь, ноги-то совсем не идут!
Сын государя Василий Иванович и его зять — молодой князь Василий Холмский — подбежали к Ивану Васильевичу и, взяв его под руки, повели в покои к Софье Фоминичне…
Прошло более двух лет. Государь поправлялся с трудом, походка у него была еще неверной, а руки начали дрожать сильней, чем прежде. Все же он не прекращал забот своих о наследнике престола и об укреплении Руси, хотя и делал все это через силу.
В начале тысяча пятьсот пятого года государь призвал сына, Василия Ивановича, и сказал:
— Сыне мой, чую яз, как силы мои уходят. Мы уже с тобой порешили о женитьбе твоей на русской девице, дабы на престоле русском была русская государыня и не могли бы чужеземные государи через жену твою руку к Руси тянуть, как было сие при матери твоей. Помни, Василий, наиглавные наши вороги, которые навек с нами непримиримы, — рымский папа да кесарь германский. Оба они хотят нас под свою руку взять, но по-разному: папу блазнит превратить нас в польский улус, яко Литву, и через польского короля получать с нас дани-выходы и ратную силу, а кесарь германский хочет то же самое изделать с нами, токмо не через Польшу, а через немецких ливонских лыцарей. Сие все едино, ибо то из государств, которое будет стоять на месте Москвы и объединит под рукой своей все земли славянские, будет самым сильным государством во всем мире. Яз мыслю, мы, государи всея Руси, сумеем воссоединить все славянские земли вокруг Москвы скорее и крепче, нежели чужеземные государи смогут воссоединить сии же земли вокруг Рыма или вокруг священной германской кесарии. Еще об одном, кстати, скажу тобе: Казань и Цистрахан, когда будут тобой покорены, не зори их до конца, воевод своих там не сажай, а сажай царей татарских, покорных тобе во всем, дабы не бунтовали татары, а дани бы исправно платили и из лета в лето смирней и покорней тобе становились… Сыне мой, хочу свадьбу твою справить в середине старого бабьего лета, сиречь сентября четвертого. В Москве уже ждут твоего выбора сорок невест из самых знатных родов боярских и княжих. Выбирай любую и веди под венец. Сим браком мы род наш, с Ивана Калиты — великокняжеский, еще более продолжим на московском престоле…
Василий Иванович, выслушав отца, почтительно приблизился к нему, встал на колени и поцеловал полу шитого золотом кафтана.
В ночь на двадцать седьмое октября того же года больной Иван Васильевич почувствовал себя совсем плохо и на другой день не встал с постели.
Приоткрыв глаза, увидел он покой свой, сияющий от утренних лучей осеннего солнца, и сына своего Василия — нового государя. Пристально стал он разглядывать лицо сына, угадывая в нем что-то сухое, самовластное и хитрое, как у матери, злое, но все это было прикрыто ханжеством и лицемерием…
Почувствовав на себе взгляд отца, Василий обернулся и, увидя его строгие глаза, смутился.
— Ты не спишь, государь-батюшка? — спросил он и быстро добавил: — Там, в передней твоей, митрополит, духовник твой Митрофаний с благовещенским клиром, бояре.
— Нет, Василий, не сплю, — молвил Иван Васильевич вдруг окрепшим голосом, каким говорил на совещаниях с воеводами и дьяками. — И пока не уснул вечным сном, хочу тобе молвить о государстве, которое ноне в руки твои переходит. Владыки же с боярами подождут.
— Слушаю и повинуюсь, государь-батюшка…
— Так вот, — продолжал Иван Васильевич, — как и отец мой был на смертном одре, так и яз ныне на смертном одре. Помни, на одре сем и ты будешь и так же, как яз ныне, будешь готовиться ответ пред Богом доржать. Слушай же вельми с великим вниманием слова мои и запомни их.
Старый государь глубоко вздохнул и заговорил снова:
— Править государством есть наука разуметь пользы ему и предвидеть вред от своих и чужеземных ворогов. Как бы ни сильна была власть государя и войска его, погибнет государство, как Золотая Орда, если не пойдет по сему пути. Путь же сей изменчив вельми. Ныне татары нам — вороги, утре — друзья. Ныне немцы и поляки — друзья, утре — вороги меж собой. Ты же за всем сим следи, ибо и чужеземные государи также за всем следят и по своему разумению союзы крепят и войны ведут. Всякий истинный государь, мысля о благе своего государства, должен в путанице всех польз и вреда, своих и чужих, избирать всякий раз путь, своему государству наивыгодный. Ежели одному тобе сил не хватит зло пресечь, ищи ворогов у ворога своего, а с сими ворогами ищи союза. Татар мы татарами били, будем и немцев всех немцами бить. У собя на Руси главная опора государю — народ и церковь, которая имеет власть над народом и которая держит народ в руках страхом Божьим. Удельных мы били боярами да детьми боярскими, ныне же и бояр оттесним дворянством служилым, на которое токмо и нужно опираться.
Иван Васильевич помолчал и, видя, что сын слушает с должным вниманием и разумеет его мысли, обрадовался и улыбнулся.
— Буду все помнить, государь-батюшка, — горячо сказал Василий, — верю яз, как и все, в великую мудрость твою.
— Главное-то слушай, — продолжал Иван Васильевич уже слабеющим от усталости голосом. — Дела-то с народом своим у государя трудней, чем с иноземными царствами. Ежели верит тобе народ и добро ему от тобя, никакие вороги тобе не страшны будут. Восстанет же ежели народ на тобя, начнутся смуты, тогда конец всему и Руси самой… Гляди всегда намного вперед. Орду мы скинули, топерь главное — с немцами бороться да с ляхами. Воссоединить с Москвой все земли русские надобно: Киев, Смоленск, Червонную Русь, о чем яз ранее тобе уже сказывал.
Старый государь утомленно закрыл глаза. Василий Иваныч, думая, что отец отходит, встал, чтобы позвать владыку.
— Сядь, — тихо молвил Иван Васильевич.
Василий сел, лицо его было тревожно. Он думал о схиме.
Помолчав, Иван Васильевич чуть насмешливо улыбнулся и продолжал:
— Помни наиглавное: ищи поддержку у народа. Прошлый год последний раз был яз на охоте и встретил там старика матерого и могучего. Поклонился он мне и молвил: «Будь здрав, государь! Не признаешь меня?» — «Нет, — говорю, — токмо голос будто памятен». — «Ермилкой звать мя, кузнец твой, а потом пушкарь в войске твоем…» — «Ну, как живешь?» — спрашиваю. Помолчал Ермилка и сказал: «Как и все, государь. Токмо вот ордынский сапог скинули, — свой жать начинает…» Яз сперва его не уразумел и спросил: «Какой «свой сапог» и где он «жмет»?» Ермилка-пушкарь усмехнулся и сказал: «Какой свой сапог? А тот, что ныне мозоли натирает оброками да юрьевым днем… Здорово жмет новый сапог-то…»